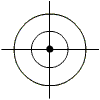Романы Льва Аркадьевича Гурского, саратовца, ставшего
гражданином США, завоевали в последние годы широкую международную
известность и нуждаются ныне не столько в рекламе, сколько
в аналитическом исследовании. В виду подступа к таковому
я хочу дать сравнительную характеристику двух его романов
["Перемена мест" и "Опасность"]... Романы Гурского, судя
по двум образцам авторской продукции, пишутся в популярном
жанре "кремлевского" постсоветского триллера-детектива,
вбирающего в себя элементы "хоррор-фикшн" (литературы
ужасов), фантастики, сатиры и юмора и пр. Такая гротескность
и даже налет карнавальности объяснимы русской историей.
Маркс и Энгельс неоднократно отмечали, что великие всемирно-исторические
события проходят две фазы - трагедии и фарса (так строились,
кстати, и представления в аттическом театре). Не то у
нас: ужасы кровавых разборок сразу и одновременно превращаются
в комедию, пусть и наичернейшего юмора.
Лев Гурский, уловив эту закономерность, пишет свои триллеры
весело, и это резко выделяет его книги из тысяч других
образцов подобного жанра. Выделяет в лучшую сторону -
хотя не обходится дело и без издержек.
Говоря иными словами, автор ведет с читателем умелую игру,
точнее, ловко организованную серию игр, переходящих друг
в друга. Издатели, кстати, включаются в эти игры, оформляя,
например, форзац романа "Перемена мест" как коллаж вырезок
из якобы реально существующих сейчас московских газет,
причем эта подборка "подыгрывает" содержанию романа. В
то же время романист в специальном предуведомлении внушает
нам, что он "не несет никакой ответственности за возможные
случайные совпадения имен, портретов, названий учреждений
и населенных пунктов", за "непредсказуемое проникновение
чистого вымысла в реальность". Зачем же тогда эта "газетная"
маскировка под реальность на форзацах? И хорош "чистый"
вымысел, если автор водит нас по хорошо знакомым улицам
Москвы и Саратова, с жюльверновской обстоятельностью дает
описания реально существующих кладбищ и монументов, торговых
комплексов и гостиниц, не говоря уж о разнообразных намеках
на тех или иных живущих ныне и так или иначе известных
деятелей. Сбить по возможности с толку читателя простодушного
и дать читателю проницательному возможность насладиться
разного рода догадками и предположениями о мере совпадений
и расхождений между вымыслом и реальностью в романах -
такова игровая стратегия Льва Гурского.
При этом не забыты и основные законы детективного жанра.
Скажем, сколь бы ни был "крут" его сюжет, главный герой
обязан оставаться живым и невредимым до конца романа,
да и на протяжении всей серии романов о нем -независимо
от количества (и качества) этих самых романов. А если
в произведениях речь идет об опасностях, грозящих целому
государству или человечеству, то они, эти напасти, должны
быть героем, по крайней мере, локализованы. Поэ тому читать
подобные книги - одно удовольствие. Когда-то великого
химика Д.И.Менделеева спросили, почему он любит "Трех
мушкетеров". Смысл ответа был таков: "Убивают много, а
никого не жалко!" Химик уловил игровую природу жанра и
его психотерапевтический эффект. Вот почему, когда на
сыщиков-персонажей Гурского обрушиваются с неумолимой
ритмичностью одна беда за другой, читатель спокоен за
наших суперменов: они и державу спасут (хотя бы на данный
момент), и себя в обиду не дадут. И сколько бы ни наводили
на них стволов, сколько ни давали зуботычин, сколько ни
издевались вербально или еще как-то, мы спокойны и нас
интересует лишь одно - как именно выйдет герой из очередной
и, ясное дело, далеко не последней смертельно опасной
ситуации.
Лев Гурский прекрасно чувствует "изношенность" жанра,
и он, играючи -в прямом и переносном смысле, - побеждает
эту трудность тем, что идет в бой с ней с открытым забралом.
Он вводит в действие самопародию. Его сыщики, явно говорящие
голосом автора, подчеркивают: все триллеры "давно придуманы
американцами и поляками" - а у одного из них фамилия на
"ский" (уж не сам ли г-н Гурский?), - в том числе и фильм,
то ли "Угроза", то ли "Опасность". В этом же романе муровец
Маковкин "смакует" некий американский боевик "Кремлины"
и пересказывает его так, что Максим Лаптев, главный герой
"Опасности", не хочет с этими "Кремлинами" знакомиться.
Но из анонсов издательства мы узнаем, что "Кремлины" -
роман опять-таки г-на Гурского. Автор как будто заранее
раскрывает карты перед читателем: вот видите - мои темы,
сюжеты, все расхватано другими, все затаскано, но все
равно это мое и я от него не отказываюсь.
Главные герои Гурского, видимо, похожи на своего создателя
- они веселы, остроумны, говорливы, активны, оптимистичны,
хотя им знакомы приступы меланхолии, раздражительности,
ожесточения. В принципе они не хотят стрелять и убивать
и предпочитают, чтобы их враги либо убивались кем-то другим
(а эти "другие" часто подворачиваются кстати!), либо погибали
бы сами, напоровшись на непредвиденные обстоятельства.
А поскольку этими врагами обычно бывают "гоблины", киллеры,
подонки, то и смерть их нас, читателей, только утешает.
И если сыщик Яков Штерн вдруг признается, что в нем сидит
"циничный мерзавец", который шутит даже на тему смертоубийства,
то эта меланхолическая нота быстро исчезает и шуткам снова
нет конца: убийство - шутка, смертельная опасность - шутка,
чудовищный монстр не ушел от возмездия и над ним тоже
надо посмеяться.
Конечно, не нужно думать, будто персонажи Льва Гурского
- близнецы-братья, нет. Частный детектив Яков Семенович
Штерн ("Перемена мест") - еврей со своим "еврейско-русским"
комплексом - он переживает из-за своего носа-"шнобеля",
он ненавидит русских фашистов и смеется над русским "квасным
патриотизмом" (образ издателя Пряникова), он повторяет
выпад В.Гроссмана против русских (здесь они названы "нашими
бабульками и дедульками"), у которых-де "уже в крови страсть
к какому-нибудь ильичу, к какому-ни будь отцу родному".
Максим Лаптев, напротив, русак и исправный работник МГБ,
лишенный как будто комплексов. Но его роднит со Штерном
нелюбовь к отечественным фашистам ("неистинным арийцам",
как он их называет), суперпрофессионализм, ненависть к
врагам государства и прочие добродетели. Впрочем, стоит
отметить еще одно небольшое различие между этими положительными
героями. В личной жизни Яков Штерн несколько разнообразнее,
что ли, своего коллеги. Сначала он почему-то страдает
буквально под пятою супруги (мазохизм?), а затем берет
реванш в интимных отношениях со своей клиенткой Жанной
("птичкой"), оказываясь вдруг в роли маленького гиганта
большого секса. У Максима Лаптева (друзья, очевидно, за
глаза зовут его ласково "Лапоть") любовь вообще как-то
за скобками: изредка он вспоминает о какой-то Ленке, хотя
ни ему, ни читателям до этой мифической дамы дела нет.
Но выше всех этих сходств и различий -коренное, изначальное
единство образов. Оно - в воплощенности героев словом,
речью. Штерн и Лаптев наделены функцией рассказчиков,
их повествование занимает львиную долю текста в обеих
книгах. И как же охотно, с каким вкусом и удовольствием
они говорят! Не забывая, впрочем, о своей основной цели,
наши детективы охотно выступают и в роли гидов для любопытного
читателя: мы узнаем от детективов, например, о различных
книжных магазинах и издательствах в Москве, о топографии
центральных улиц Саратова и т.д. Мало того, эти увлекательные
рассказы то и дело превращаются в искусные юморески, которые
вполне годятся для эстрады. Такова, например, имеющая
вполне самостоятельное значение историйка с художником-модернистом,
едущим из Раненбурга в Саратов. Вообще, юмор г-на Штерна
подчас приобретает самоценный характер, герой "играет
в слова", как он сам выражается, даже в опасные для него
моменты. Штерн ("звезда" в переводе с немецкого) - это
как бы повзрослевший аксеновский "звездный мальчик" -недаром
один из романов Гурского посвящен Василию Аксенову. Но
основной, пожалуй, источник этого неиссякаемого юмора
в романах - это Ильф и Петров. Есть и отсылки к соответствующему
тексту (глава "Телефонограмма от братьев Карамазовых";
упоминание гробов мастера Безенчука и пр.) и прямая "наводка"
- Максим Лаптев у книжного лотка советует покупателю:
"Читайте классику... Ильфа и Петрова, к примеру. Тут вам
и сюжет, и юмор".
И эта классика мгновенно творчески воплощается в саратовских
эпизодах "Опасности", которые сам автор скромно, но уверенно
считает "не скучными". Еще бы! Да это просто цирк, фейерверк,
карнавал, да еще в увлекательной форме детектива. Как
бравый чекист Лаптев пародирует жест руки каменного Ильича
(хорош разведчик, привлекающий этим внимание к себе!),
как он мчится от преследователей на "гибриде велосипеда
и пылесоса", как бежит мимо музея Федина во двор дома
(угадывается набережная Космонавтов, дом N 3), где разыгрывается
комедия ареста героя, достойная пера автора "Ивана Чонкина",
и как ловко в гостинице "Братислава" муровец Юлий Маковкин
мечет ананас в физиономию группенфюрера Миши Булкина -
все это читаешь на одном дыхании. Гурский -мастер подобных
сцен, ловко комбинирующих "крутой" детектив с клоунадой.
Кстати, автор не скрывает своего пристрастия к цирку и
буффонаде: в обрамлении романа "Перемена мест" фигурирует
милиционер - Пиноккио, Штерн, скрывшись за урной-пингвином,
бросает пакет с йогуртом во вражескую машину и побеждает
ее, а Максим Лаптев разрядом из новогодней хлопушки превращает
двух "гоблинов" в пару клоунов. Все эти "клоуны", ясное
дело, вскоре погибают, но их ни капельки не жаль - ведь
они уходят по сцены, отыграв свои гротескно-цирковые амплуа.
Щедро снабжает автор своих сыщиков и цитатами из самых
разных произведений, причем этими цитатами герои просто
играют, каламбурят, сплетают гирлянды из цитат, мифологических,
сказочных, литературных, театральных, киношных, политических
и иных артефактов и реалий. Майор Окунь воображает себя
Цербером, но остается "рыбой", впрочем, говорливой. Юноша,
выходящий из дома с книгой, похож и на Тома Сойера, и
на "юношу бледного со взором горящим" (цитата из Брюсова),
грызущего, однако, гранит науки (цитата из Троцкого) так,
что слышна работа его челюстей (комическая метафора).
Иногда эти "языковые игры" остроумны и удачны, иногда
- нет. Очень хорошо, скажем, ложится в сюжет эпизод с
немецко-русским словарем, в котором Штерн исследует гнездо
слов с основой "доппель" (двойной). Но неприятно обыгрывание
прозвища И.Курчатова "Борода" - тем более что художник
Евг.Савельев на рисунке почему-то изобразил памятник не
академику-атомщику, а Ленину. Неуместна насмешка над эпизодом
убийства царевича Димитрия в г.Угличе и т.п.
И еще одно замечание под занавес. Ю.В.Андропов у нас обычно
изображается очень серьезным человеком, таковым он явлен
и в романе "Опасность". А вот лично знавший его работник
Президиума Верховного Совета СССР Ю.А.Королев в книге
"Кремлевский советник" (М., 1995) пишет, что Юрий Владимирович
"был большим знатоком Ильфа и Петрова", "частенько пользовался
бессмертными строками" из хрестоматийной дилогии. Льва
Аркадьевича Гурского, по-моему, этот факт (если он верен,
конечно) мог бы заинтересовать...
"Волга" (Саратов), 1996, N 4, с. 173 176