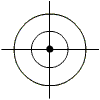Три Ретроспективы (Фрагменты романа)
12 октября 1921 года
Берлин
Заскрипели половицы в коридоре, все ближе, ближе. Наконец,
в дверь деликатно постучали.
Отто отложил перо, досадливо взглянул на недописанную
страницу, потом со вздохом сказал:
- Да-да, фрау Бюхнер! Заходите.
Фрау Бюхнер осторожно приоткрыла дверь, просунула голову
и, с почтением посмотрев на рабочий стол, заставленный
пробирками, прошептала:
- Герр профессор, я иду на рынок...
- Ну, так в чем же дело? - нетерпеливо спросил Отто,
искоса поглядывая на свой наполовину исписанный листок.
Темно-синяя клякса, слетевшая с кончика пера, угодила
прямо в середину написанной строки. Клякса напоминала
голову сэра Вильяма Рамзая в профиль: аристократический
нос, надменно поджатые губы, бетховенская копна седых
волос. Сэр Вильям всегда называл его "мой мальчик". "Мой
мальчик, ты опять разбил спектральную трубку? - Да, сэр,
но университетский стеклодув... - Ладно, не огорчайся.
Стекло бьется к удаче. Завтра повторим опыт". Отто аккуратно
промокнул кляксу, отчего шевелюра сэра Вильяма сделалась
еще более пышной. "Ну, вот я и не мальчик, - подумал
Отто. - Мне сорок два года, я ординарный профессор Берлинского
университета... И что же?"
Фрау Бюхнер возле двери осторожно кашлянула.
- Деньги кончились, герр профессор, - трагическим шепотом
проговорила она. - Вы вчера изволили попросить спаржу,
а зеленщик со вчерашнего дня перестал отпускать в долг.
И молочник сказал мне, что в стране инфляция, и даже для
постоянных клиентов он вынужден отменить кредит. Я знаю
место, где все дешевле и можно поторговаться, но там требуют
наличные...
Отто в последний раз тоскливо взглянул на формулу, оборванную
на середине, на бледную кляксу рядом с формулой и затем
поднялся из-за стола. Утро было потеряно для работы, хотя
экономка была тут совершенно ни при чем. Легко было поставить
эксперимент и даже получить впечатляющий результат. Но
чтобы согласовать этот результат с аксиомами теоретической
физики... Майн готт! Проще пересмотреть аксиомы.
- Всем нужны наличные, фрау Бюхнер, - ворчливо заметил
он, подходя к конторке. - Только в нашем университете
почему-то считают, будто физики настолько невежественны
во всех остальных областях науки, что не знают ничего
про инфляцию. Поэтому ассистент на кафедре германской
филологии получает в три раза больше, чем у нас. Конечно,
у него тяжелая работа: он переставляет манускрипты с места
на место. А у нас ассистент всего лишь балуется с изотопами.
- Безобразие! - немедленно поддакнула экономка. Она
смутно разбиралась в научных тонкостях и едва ли бы, наверное,
смогла отличить физика от филолога. Но в правоту герра
Отто она верила неукоснительно.
Отто старательно пересчитал кредитки и протянул толстую
пачку фрау Бюхнер. Та с готовностью подставила свою потертую
зеленую сумку, с которой ходила за покупками. В кошельке
нынешние деньги давно уже не помещались.
- Здесь пять тысяч, - объявил профессор экономке. -
На сегодня хватит, как вы думаете?
Фрау Бюхнер добросовестно зашевелила губами, производя
сложные расчеты. Лоб ее покрылся складками.
- Маргарин - шестьсот марок, - забормотала она, уставившись
куда-то в потолок. - Хлеб - двести, спаржа - триста
семьдесят с учетом долга... И еще мяснику, и купить картофеля
на рынке...
- Не забудьте про столовое вино, - напомнил Отто.
- Одну бутылку?
- Одну. Нет, лучше две.
Фрау Бюхнер закончила все подсчеты и удовлетворенно кивнула:
- Пяти тысяч, пожалуй, хватит. А вино, герр профессор,
я с вашего позволения возьму в лавочке у Кранаха. Он нам
всегда делает скидку из уважения к вашей физике.
Профессор хмыкнул про себя. Какое там уважение! Кранах-младший,
губошлеп Людвиг, был весьма нерадивым студентом на его
факультете. И только папашино вино, отпускаемое в пользу
университета, примиряло герра ректора с бесконечными людвиговыми
"неудами". При этом Людвиг не был тупицей, вовсе нет.
Просто веселым оболтусом и большим любителем выпить и
подраться. Когда же он был трезв и приходил на лекции,
то задавал герру профессору вполне дельные вопросы...
- Я приду через полчаса, - сообщила экономка и, крепко
сжав сумочку с деньгами, притворила за собой дверь. Через
несколько секунд скрип половиц стих.
Отто вернулся к столу, сел, вновь придвинул к себе листок,
обмакнул перо в чернильницу и задумался. Клякса-Рамзай
подмигнула ему из середины формулы. Это был явный и безнадежный
тупик. Недаром Лиза, узнав первой о результате опыта,
только сочувственно улыбнулась. "Ты превзошел самого себя,
- сказала она, бегло перелистав его рабочие записи. -
Ты уже почти ответил на вопрос "как?". Осталось ответить
на пустяковый вопрос "почему?"...". В самом деле - пустяк.
Десяток-другой новых седых волос на его голове, язва,
нервный тик - и ты у цели. Наука требует жертв. Цум тойфель!
Перо в руке подпрыгнуло, и новая жирная клякса легла в
двух сантиметрах от первой. Вторая походила на резерфордову
модель атома... Нет, так и свихнуться недолго. Начнем-ка
все заново.
Решительным росчерком пера Отто перечеркнул весь предыдущий
абзац вместе с незаконченной формулой и двумя кляксами
и начал быстро писать, стараясь не упустить мысль: "Теперь
нетрудно предположить, что благодаря разработанному нами
методу радиоактивной отдачи..."
В дверь деликатно постучали.
- Я занят, фрау Бюхнер! - раздраженно крикнул Отто.
- Если денег не хватает, можете не брать маргарина...
и вина... и вообще ничего!
- Простите, герр профессор, - раздался из-за двери виноватый
голос экономки. - К вам тут посетитель. Я уже собиралась
уходить и сказала ему, что герр Отто работает, но он так
просил, так настаивал...
Острие пера споткнулось о какое-то бумажное волоконце,
ученый попытался высвободить перо, и в результате лист
пересекла рваная царапина. Профессор сосредоточенно сложил
лист вчетверо, разорвал, сунул обрывки в тигель и с наслаждением
поджег. И только тогда немного успокоился.
- Пусть войдет! - громко произнес герр Отто. - Но предупредите
его, что профессор сможет уделить ему только пятнадцать
минут. - "Кто бы он ни был, - добавил он про себя. -
Хоть сам ректор. Хоть бургомистр... Хоть дьявол".
Через несколько секунд раздался скрип половиц, дверь в
комнату распахнулась, и на пороге показался посетитель.
Профессор с недовольством оглядел пришельца. Это был не
дьявол и даже не бургомистр. Какой-то незнакомый гауптман
в мундире рейхсвера. Судя по тому, что мундир был основательно
потрепан, а его владелец - еще более основательно небрит,
гость уже давно расстался с армией и только донашивает
форму. Бывший гауптман бывшей армии опирался на грязноватую
трость, в другой руке у него была картонная папка.
- Вы - профессор Отто Ган? - с порога поинтересовался
гость. Несмотря на солидную комплекцию, голос пришельца
оказался неожиданно тонким и визгливым.
Профессор встал из-за стола и сделал шаг навстречу гостю.
- Да, вы не ошиблись, - холодно произнес он. - Простите,
с кем имею удовольствие...
Бывший гауптман коротко представился. Фамилия ученому
решительно ничего не говорила. По всей вероятности, бывший
вояка надеялся найти работу на факультете и желал получить
совет или протекцию. Вакансия лаборанта - последняя из
оставшихся - была заполнена две недели назад. К тому
же герр Отто сомневался, что пришелец с тростью согласился
бы мыть пробирки и готовить к опытам
лабораторный стол. - Если вы пришли насчет вакансии...
- начал было ученый.
- Нет, - бесцеремонно перебил его гость. - Я интересуюсь
наукой и пришел поговорить с вами о вашем радии. Вы ведь
занимаетесь радием, не так ли?
- Торием, а не радием, - печально поправил Отто Ган
хромого гауптмана, интересующегося наукой. Он уже понял,
какого сорта будет разговор, и в очередной раз за это
утро почувствовал тоску. Гость был, без сомнения, безумцем.
Одним из сотен и сотен ветеранов войны, которым четыре
года на передовой окончательно свернули мозги набекрень.
Все они читали газеты, были очень бедны, очень деятельны
и имели в запасе массу гениальных прожектов. "Бьюсь об
заклад, - подумал профессор Ган, - что он сейчас предъявит
мне газетную вырезку..."
- Торием, радием... Какая разница! - отмахнулся пришелец.
Широко шагая, он приблизился к профессорскому столу, небрежно
отодвинул в сторону бумагу, чернильницу, лабораторную
посуду. После чего развязал тесемки своей папки и высыпал
на стол целый ворох газетных вырезок. Здесь были статьи
из солидных еженедельников - и одновременно с этим из
самых бульварных газетенок и журнальчиков, чуть ли не
из "Люстиге Блеттер". Бумажную пирамиду увенчала та самая
глупая заметка из "Берлинер Тагеблатт", которая в свое
время так развеселила коллег по физическому факультету.
При виде этой вырезки тоска профессора Гана усилилась.
Тем более, что, как он успел заметить, статья была вся
исчеркана красным карандашом.
- Если вы пришли по поводу этой заметки, - поспешно
проговорил ученый, - то к измышлениям корреспондента
я абсолютно не причастен. Он переврал все, что можно было
переврать. То, что он сообщил якобы от моего имени о природе
изотопного обмена, - полная бессмыслица.
Гауптман, не слушая хозяина кабинета, приставил свою трость
к столу и принялся ворошить свои вырезки. В конце концов
он нашел то, что хотел, и деловито сказал:
- В вашей физике я не очень-то разбираюсь.
"Прекрасное начало разговора, - подумал Отто Ган. -
Многообещающее."
- Во время войны я был простым летчиком. Бомбил позиции
русских и лягушатников, - между тем продолжил визитер.
- Совершенно дурацкое занятие, доложу я вам.
"Да он пацифист! - удивился про себя профессор. - А
по виду никогда не скажешь...". Следующие слова гостя
тут же показали, что герр Отто Ган несколько поторопился
с выводами.
- М-да, в высшей степени дурацкое! - повысив голос,
повторил гость. - Поражающие качества наших бомб были
омерзительными. С таким же успехом можно было метать вниз
мешки с овсом. Даже прицельное бомбометание почти не давало
эффекта. Дюжина оторванных рук - и это в лучшем случае.
В лучшем!
"Маньяк, как я и предполагал, - поставил мысленный диагноз
ученый. - Как бы его выпроводить отсюда, пока он не разбушевался
и не переколотил своей тростью всю стеклянную посуду?"
- Вы ошиблись адресом, милейший, - проговорил Отто,
стараясь, чтобы его голос прозвучал как можно мягче. -
Я не химик. Я не занимаюсь взрывчатыми веществами...
- А чем же вы, по-вашему, занимаетесь? - бесцеремонно
оборвал его небритый гауптман. - Вот вы сами сказали
корреспонденту, - гость ткнул пальцем с обкусанным ногтем
в злополучную газетную заметку, - "если удастся высвободить
энергию, которую таят в себе радиоактивные элементы, ее
тротиловый эквивалент составил бы..."
Отто Ган застонал про себя. Ну, почему он сразу не подал
на газету в суд? Или, по крайней мере, почему не вызвал
редактора на дуэль? В молодости студент-физик Отто, помнится,
неплохо фехтовал.
- Ничего подобного я не говорил и сказать не мог, -
устало произнес профессор. - Эта безграмотная фраза -
целиком на совести репортера "Берлинер Тагеблатт". Тротиловый
эквивалент здесь абсолютно ни к чему...
- Но позвольте! - упрямо сказал гауптман, таращась то
на Гана, то на свои вырезки. - Я веду учет вашей физике.
Вот... В 1903 году фрау Кюри открыла радий... В 1909 году
герр Содди открыл распад радиоактивного атома... В том
же году вы, профессор, вместе с фройляйн Мейтнер открыли..
. Отто Ган издал глубокий вздох.
- Драгоценный мой гауптман, - чуть ли не простонал он.
- Я ценю вашу самоотверженность. Но все, о чем вы толкуете,
не имеет ни малейшего отношения к бомбардировкам русских
или французских позиций. И к бывшим, и к будущим. Проблема
энергии атомного ядра представляет сугубо теоретический
интерес. И притом, извините, только для узких специалистов
вроде меня или Лизы Мейтнер. Я ведь не берусь толковать
с вами о бипланах и "цеппелинах", верно?
Гость пристально посмотрел в глаза профессору.
- Тогда почему же, - недоверчиво проговорил он, - во
время битвы на Марне ваша фрау Кюри, я читал, перевезла
свой запас радия из Парижа в Бордо, подальше от линии
фронта? Чего она боялась?
Отто Ган постарался взять себя в руки. Если он сейчас
же не выпроводит гостя, этот бессмысленный разговор может
продлиться бог знает сколько времени.
- Одна десятая грамма чистой соли радия стоит сегодня
пятнадцать тысяч долларов, - медленно, с нажимом произнес
он. - Использование в военном деле такого дорогого элемента
- даже если бы его и можно было как-то использовать в
бомбах! - разорило бы даже богатую страну, вроде Североамериканских
Соединенных Штатов. Прошу вас, выкиньте из головы мысль
о радиевой бомбе. Это чушь, бред, выдумка безграмотных
газетчиков... Вы меня понимаете?
К счастью, внушительная сумма в долларах произвела на
гауптмана впечатление.
- Пятнадцать тысяч, - забормотал он. - Это если перевести
в марки по сегодняшнему курсу...
- Именно, - подтвердил профессор Ган, радуясь своей
сообразительности. - Дешевле делать бомбы из золота.
С этим словами он быстро собрал гауптмановы вырезки обратно
в папку, сунул ее в руку гостю, подал ему трость и осторожно
начал подталкивать к двери. Теперь гауптман не сопротивлялся,
больше не спорил и позволил физику дать выпроводить себя
на улицу.
Когда фрау Бюхнер, нагруженная свертками, вернулась с
базара, она застала герра профессора в бодром расположении
духа. Лист бумаги, лежащий на столе перед ним, был исписан
почти до конца. Раздражение, вызванное нелепым спором
с хромоногим гауптманом, неожиданно принесло свои плоды:
формулировка, которая так долго не давалась в руки, теперь
возникла в голове будто бы сама собой. "Явление ядерной
изомерии" - вот как это будет называться. Да, именно
так. "Лизе наверняка понравится, - подумал Отто Ган.
- Она обожает четкость формулировок".
- Ваш посетитель уже ушел? - поинтересовалась фрау Бюхнер.
- Да, мне довольно быстро удалось его выставить, - не
без гордости ответил ученый. - Псих, разумеется. Помешался
на бомбах. Некто Гейринк... или Геринг. Точно, Геринг.
Если еще когда-нибудь придет, скажите ему, что меня нет
дома.
2 марта 1953 года
Подмосковье
Румяная упитанная девочка лет десяти кормила из соски
козленка. Козленок был маленький и щуплый. Он покорно
тянул молоко, воображая, очевидно, что существо в голубеньком
ситцевом платье и ярко-красном пионерском галстуке -
и есть его козлиная мама. Кормление проходило на лесной
опушке на фоне елок. Где-то за елками всходило солнце.
- Хорошая картина, - одобрительно сказал Маленков. -
И тема важная, и нарисовано неплохо. Смотрите, на елках
прямо все иголочки видны. Это за один день не нарисуешь,
и за два тоже. Не меньше недели потребуется. Я-то знаю,
у меня у самого свояк художник.
Каганович, набычившись, уставился на картинку. Он был
сильно близорук, но даже под пыткой не согласился бы носить
очки. Еврей, да еще и в очках - это был бы явный перебор.
Надо было выбирать одно из двух, и Каганович предпочел
оставить себе то, что он так и так не смог бы изменить.
- Да-а, - глубокомысленно протянул он, наконец, мучительно
щурясь, однако из принципа не желая подходить совсем близко.
- С точки зрения идейности все в порядке. И Мамлакат
как живая...
Маленков снисходительно улыбнулся:
- Сам ты Мамлакат, Лазарь! Здесь девочка беленькая, а
та была темненькая, узбечка. И лес какой вокруг, посмотри.
Типичная средняя полоса России. Воронеж или там Курск.
Каганович еще больше сощурился, впиваясь глазами в картинку.
- А кто же это, если не Мамлакат? - с подозрением спросил
он у Маленкова. - Что-то ты крутишь, Георгий. Я ведь
не дурак какой. Сам все прекрасно вижу, и девчонку, и
козла. А если ты такой гра-а-мотный, скажи, как зовут.
- Кого зовут, козла? - хмыкнул Маленков.
- Не козла, а девку! - раздраженно ответил Каганович.
- Шутник хренов.
- Откуда я знаю, как ее зовут? - пожал плечами Маленков.
- Какая-нибудь Катя Иванова из колхоза "Заветы Ильича".
- А не знаешь, так и молчи, - отрубил Каганович. -
Если каждый меня будет учить...
- Кто здесь говорит о козлах и девках? - вмешался в
разговор Хрущев, подходя к спорщикам. - Опять ты, Лазарь?
- Он, он, кто же еще? - моментально произнес Маленков,
коварно улыбаясь. - Ему, Никита, вот эта девчонка очень
приглянулась. Седина в бороду, а бес в ребро. Хочу, говорит,
себе такую - и баста!
От такой неожиданной подлости Каганович опешил и даже
не нашелся, что сказать. Тем временем Хрущев с любопытством
стал разглядывать картинку.
- Мелковата девчонка, - разочарованно проговорил он.
- Совсем еще пацанка. Не понимаю я тебя, Лазарь, честное
слово.
- Вот и я не понимаю, - с фальшивой грустью поддакнул
Маленков. - Ладно бы взрослая баба была, а то - малявка,
школьница. Я раньше не замечал за нашим Лазарем...
Каганович мрачно сплюнул на пол и сосредоточенно растер
плевок подошвой сапога по желтому вощеному паркету.
- Ты его больше слушай, Никита, - с обидой буркнул он.
- Что ты, Георгия не знаешь? Он вечно все перевернет
да переиначит. Я ему сказал только насчет всей картины,
что в смысле идейности все правильно.
Хрущев оглядел еще раз пионерку, козленка и елки.
- По поводу идейности спорить не буду, Лазарь, - заметил
он. - Но вообще-то картина так себе. Этот дохлый козлик
все равно не жилец, и выкармливать его - только зря время
тратить. У нас на Украине таких сразу отправляли на убой.
А на развод оставляли только самых крепких. Потому и животноводство
у нас было на уровне.
- Погоди, Никита, - сказал Маленков. - Давай разберемся.
Что если здесь нарисован не колхозный козленок, а личный?
Может ведь такое быть?
- Может, - подумав, кивнул Хрущев. - Но тогда в смысле
идейности выходит непорядок. Получается, что пионерка
вместо того, чтобы ухаживать за колхозной скотиной, откармливает
своего индивидуального козла. Подкулачница, выходит...
- М-да, оплошал ты, Лазарь Моисеевич, - сурово подытожил
Маленков. - Неправильно тут с идейностью, оказывается.
Откуда картинка вырезана, из "Огонька"? Надо разобраться
с Сурковым насчет линии журнала. Поощрять кулаков - это,
товарищи, никуда не годится...
- Что ты мелешь, Георгий? - злобно перебил его Каганович.
- Из-за какого-то козла хочешь малолетку в Сибирь законопатить?
Может, это вообще постороннее животное, художник, может,
его просто для красоты изобразил рядом с Мамлакат?
- Не горячись, Лазарь, - успокаивающе проговорил Хрущев.
- У нас, как известно, зря не сажают. Если выяснится,
что скотина посторонняя, ничего девчонке твоей не будет.
- Ну почему моей?! - воскликнул Каганович. - Я на эту
картину и внимания сначала не обратил. Это все Георгий!
Хорошая картина, дескать, и тема важная, и елки опять
же...
- Ничего подобного я не говорил, - немедленно открестился
Маленков. - Я даже удивляюсь, как эта кулацкая дочь сюда
попала. Надо снять ее, пока Лаврентий не приехал.
Не теряя времени, он стал отколупывать канцелярские кнопки,
которые удерживали на стене глянцевую вырезку из "Огонька".
Кнопки, однако, были вогнаны в дерево на совесть и никак
не желали вылезать. Маленков уже вознамерился просто сорвать
опасную картинку, наплевав на кнопки, но тут был вдруг
остановлен подоспевшим Микояном.
- Ты что делаешь, Георгий? - возмутился он. - Зачем
безобразие наводишь? Висела себе картина - и пусть висит.
- Вот и я к тому же! - обрадовался внезапной поддержке
Каганович. - Пристали, понимаешь, к школьнице: чей козел
да чей козел? А, между прочим, картина не нами здесь повешена.
- Ладно, пусть остается, - не стал спорить Хрущев. -
Я ведь не против. У нас на Украине были случаи, когда
из таких задохликов вырастали такие бугаи. Чемпионы по
молоку и мясу.
- А что это ты, Анастас, за художника заступаешься? -
бдительно нахмурился вдруг Маленков. - Уж не земляк ли
твой Налбандян эту штуку намалевал? То-то я смотрю, ты
на нас орлом накинулся. Стыдно, товарищ Микоян. Стыдно,
что проявляешь буржуазно-националистические настроения.
Стало быть, своих защищаешь, так? Скажи спасибо, что Лаврентий
нас не слышит. Он бы тебе показал...
Тем временем Анастас Иванович тщательно обследовал вырезку
вблизи и затем не торопясь объявил:
- Нет, товарищи, это не Налбандян. Вон видите в самом
низу маленькие буковки? Тут указана фамилия художника.
Лауреат Сталинской премии Ефанов.
- Ага, - мстительно потирая руки, произнес повеселевший
Каганович. - Ефанов - это не твой ли своячок, товарищ
Маленков? Вы вроде с ним на сестрах женаты или я ошибаюсь?
- Не ошибаетесь, Лазарь Моисеевич, - с удовольствием
сообщил Микоян. - Он самый и есть. Свояк его, натуральный.
- Странно получается, Георгий, - укоризненно проговорил
Хрущев. - Твой родственник, значит, рисует сомнительные
картины, а ты нам голову морочишь всякими козлами и налбандянами.
Твое счастье, что Лаврентий запаздывает.
- Вот именно, - подтвердил Каганович. - Лаврентий бы
так просто не отстал, ты его знаешь.
На несколько мгновений вся четверка примолкла: характер
Берии хорошо знали все. И еще лучше все четверо были осведомлены
о том, что две отборные дивизии МГБ, расквартированные
в Подмосковье, по-прежнему напрямую подчинены Лаврентию.
Сейчас глупо было ссориться из-за какой-то несчастной
картинки из журнала "Огонек".
- Ладно, - нарушил молчание Хрущев. - Пошутили - и
будет. Мы, кажется, совсем забыли о нашем больном.
Упомянутый больной неподвижно лежал на диванчике у противоположной
стены огромной полутемной комнаты бункера. Бледный небритый
академик Виноградов в халате, надетом наизнанку, лихорадочно
искал вену на правой руке больного, пытаясь поставить
"систему" - уже третий раз за сегодняшнее утро. Две перепуганные
медсестры суетливо разбирали груду медицинского оборудования,
наваленного прямо на двух табуретах возле диванчика.
Четверо членов Политбюро перегруппировались на ходу, и
вместо спорщиков у одра больного возникла уже безутешно
скорбящая четверка самых преданных друзей.
- Ну, что? - тревожно спросил у академика Хрущев, выступая
на полшага вперед.
Виноградов поглядел на четверку безумными глазами.
- Безнадежен, - с отчаянием прошептал он. - Мы уже
ничего не сможем сделать. Процесс слишком далеко зашел,
это агония. Через полчаса мы собираем второй консилиум,
но, боюсь... - Он замолчал и развел руками. Гибкая резиновая
трубочка "системы" немедленно вырвалась у него из пальцев,
и игла стала раскачиваться в опасной близости от лица
больного. Впрочем, тот, похоже, ничего уже не видел и
не слышал. Глаза его были закрыты, дышал он уже редко
и тихо.
Четверо членов Политбюро переглянулись.
- Медицина должна сделать все возможное... - торжественно
начал Маленков.
- ...и даже невозможное... - добавил Каганович.
- ...возможное и даже невозможное, - согласно кивнул
Маленков, - чтобы наш дорогой вождь товарищ Иосиф Виссарионович
Сталин поправился.
- Медицина бессильна, - возразил академик Виноградов
усталым голосом приговоренного галерника, которому уже
все равно терять нечего. - Он может прожить еще час,
максимум два. Не больше. Можете меня расстрелять за саботаж,
но любой врач в данной ситуации скажет вам то же самое...
- Расстрелять? А почему бы и нет?
Все вздрогнули.
Голос, донесшийся от входной двери, мог принадлежать только
одному-единственному человеку.
- А, Лаврентий, мы тебя заждались, - проговорил Хрущев,
стараясь, чтобы его голос предательски не дрогнул.
Берия, широко шагая, приблизился к постели умирающего.
За ним семенил низкорослый человечишко в шоферских крагах
и шинели с голубенькими лычками.
- Уже скончался? - отрывисто спросил Берия, обращаясь
к помертвевшему академику Виноградову.
Академик помотал головой.
- В сознание приходил?
Тот же отрицательный жест.
- Ясно, - задумчиво произнес Берия и щелкнул пальцами.
- Эй, Хрусталев!
- Слушаю, Лаврентий Павлович! - преданным тоном сказал
человечек в шоферских крагах.
- Жди меня в машине. Мотор не глуши, через пятнадцать
минут поедем.
- Есть! - щелкнул каблуками преданный Хрусталев и испарился.
Берия окинул взглядом всю комнату разом, задержался глазами
на картинке с пионеркой и козликом, хмыкнул, а затем приказал
медсестрам и академику:
- Прочь отсюда. Вернетесь, только когда я уеду.
Медсестры в три секунды выкатились за дверь. Академик
Виноградов поднялся со своей табуретки и начал было неуверенно:
- Но мы не имеем права оставлять...
Берия с любопытством посмотрел на Виноградова:
- Первый раз вижу человека, который добровольно напрашивается
на 58-ю статью... Выйди по-хорошему. Сам ведь сказал,
что медицина бессильна. Считаю до трех. Раз.
Подобрав полы халата, академик покорно проследовал к выходу.
Когда дверь за ним закрылась, Берия негромко объявил четверке:
- И вас я попрошу оставить меня минут на десять. Я хочу
сам, без ваших постных рож, попрощаться с Кобой.
Маленков сказал осторожно:
- Уверяю, Лаврентий, мы с Никитой, Лазарем и Анастасом
тебе не помеха. И у тебя ведь не может быть никаких секретов
от партии...
- Пошел на хер, Маланья, - нетерпеливо прервал его Берия.
- От партии у меня нет секретов, а от вас - есть. Откуда
мне знать, не вы ли вчетвером уморили нашего вождя? Почему,
например, так поздно вызвали академика?
- Что ты несешь, Лаврентий? - испуганно проговорил Каганович.
- Ты ведь сам первый предложил...
- Так-так, - холодно процедил Берия. - И что я предложил?
Ну, смелее! А-а, зассали, товарищи члены Политбюро! Последний
раз прошу: исчезните отсюда на десять минут. А то хуже
будет.
Четверка попятилась.
- Как хочешь, Лаврентий, - примирительно сказал Хрущев.
- Если желаешь в одиночку попрощаться, мы ведь не против...
С этими словами он первый повернулся и проследовал к выходу.
Каганович, Маленков и замыкающий Микоян гуськом потопали
к двери. Берия подождал, пока тяжелая металлическая дверь
бункера, сделанная из особого сплава, плотно закроется.
Затем он, словно бы в задумчивости, постоял на месте несколько
секунд, после чего быстро подошел к диванчику и присел
на табурет. Действия его было трудно назвать прощанием
с любимым вождем. Берия взял умирающего за отвороты френча,
приподнял его и начал энергично трясти.
- Ну же, ну! - злобно шептал он. - Ты не уйдешь, Коба!
Ты мне еще кое-что должен... Я тебя так просто не отпущу...
Открой глаза, кому говорят! Открой!
Берия уже не надеялся на чудо, когда чудо вдруг произошло.
Веки умирающего дрогнули. Еще раз, еще. Наконец, один
глаз открылся. Через мгновение взгляд этого единственного
глаза стал осмысленным. Губы умирающего зашевелились.
Казалось, он пытается что-то выговорить, но не может.
- Коба, это я, Лаврентий! - поспешно проговорил Берия.
- Узнал?
Умирающий что-то тихо промычал.
- Узнал, - с удовлетворением отметил Берия. - А теперь
быстро скажи мне, где бомба? Где она? Та самая, изделие
номер три из первой партии...
Губы умирающего опять зашевелились. Какие-то слова пытались
выскользнуть из его помертвевших губ, но паралич, охвативший
всю левую сторону, вновь превратил их в неясное бормотанчие.
- Только не ври мне, - Берия погрозил бывшему вождю
пальцем. - Перед смертью нельзя врать. Я ведь знаю, ты
спрятал ее где-то в Москве. Скажи мне место, ну!
Опять неразборчивый шепот вместо ответа.
- Ну, скажи мне хоть что-нибудь! - тон Берии стал умоляющим.
- Хоть намекни! Близко она или далеко?!
При этих словах произошло второе и последнее чудо. На
секунду-другую умирающему удалось преодолеть свою немоту.
Синеющие губы сложились в гримасу, похожую на улыбку.
- От тебя, Лаврентий, она далеко, - отчетливо прошептал
Сталин. - А от меня - близко.
21 декабря 1986 года
Москва
Во время обеда потревожить Главного мог только камикадзе.
В любое другое время Главный был вполне доступен, приветлив,
демократичен (хотя само слово "демократия" терпеть не
мог), к нему можно было ворваться без приглашения, без
звонка и даже без стука... Но только не между часом и
половиной третьего. В эти часы целый этаж дома в Костянском
переулке замирал: корреспонденты и литсотрудники ходили
на цыпочках, девочки из секретариата совершали по коридору
сложные балетные па, чтобы успеть быстро разнести по отделам
гранки и при этом не издать ни единого звука, а со случайными
посетителями даже при закрытых дверях старались изъясняться
конспиративным шепотом, еще лучше - с помощью азбуки
для глухонемых. Даже бачок в туалете приучен был с часа
до половины третьего не скрежетать, как обычно, а нежно,
по-голубиному, ворковать...
И вдруг ритуал был злодейски нарушен. Без десяти два на
этаже показался припорошенный снегом человек в тулупе,
кроличьей шапке на два размера больше, в невероятных альпинистских
ботах на платформе и левисовских джинсах. Снежный человек,
наплевав на приличия, шумно пробежал вдоль по коридору,
волоча за собой огромную кожаную сумку. Боты, очевидно,
были снабжены острыми металлическими подковками или шипами
из нержавейки, а потому производили отчетливый цокающий
звук, как будто по редакционному паркету мчался мустанг-иноходец.
Шумный человек был очкаст, очки запотели, и прежде чем
добраться до редакторской двери, возмутитель спокойствия
успел слепо ткнуться в посторонние двери, чертыхнуться,
поздороваться, извиниться и, в конце концов, попасть туда,
куда надо. Сотрудники отделов тем временем начали с ужасом
выглядывать из кабинетов, предполагая, по меньшей мере,
увидеть роту пьяных хунвэйбинов, но узнав снежного человека,
сочувственно переглядывались между собой: самоубийца,
чистый самоубийца!
Сопротивление секретарши Главного человек с сумкой сломил,
как тяжелый танк "Леопард", легко сминающий на учениях
декоративные проволочные заграждения, и без семи минут
два возник на пороге редакторского кабинета - заснеженный,
мокрый, счастливый плюс улыбка в тридцать два зуба (тридцать
своих и два искусственных).
Шумному человеку определенно повезло. Главный сегодня
был донельзя благодушен. Когда дверь распахнулась, он
как раз допивал свой кофе с молоком, принесенный из буфета,
и одновременно дочитывал "Правду". Утром он ее просматривал
навскидку, а во время обеда, не торопясь, изучал с красным
карандашом в руках, высчитывал тенденции. Сегодня тенденции
были более чем благоприятными, поэтому Главный не испепелил
пришельца взглядом и даже не приказал вывести его и шлепнуть
у ближайшей стенки. Мало того - он и не хряснул кулаком
по бордовому тому энциклопедического словаря на столе
(предназначенному специально для надлежащих распеканий
нерадивых сотрудников), и не закричал, болезненно морщась:
"Заявление - на стол! И чтобы духу твоего..." Он просто
поднял глаза от газеты и со вздохом попросил:
- Через полчасика, а? Видишь же, обедаю.
Снежный гость не пожелал ждать полчасика. Он быстро приблизился
к столу, бросил шапку на одно кресло, а кожаную сумку
- на другое. Затем пальцами наскоро протер очки и радостно
выдохнул:
- Он! Возвращается!
Главный озадаченно отложил "Правду" вместе со всеми тенденциями
и спросил с удивлением:
- Кто возвращается?
Пришелец опешил. Он-то был уверен, что его поймут с полуслова
и не потребуется никому ничего объяснять. Тем более и
времени не было для объяснений.
- Кто возвращается, Юра? - повторил Главный.
- Да академик же! - воскликнул пришелец Юра. - Сегодня,
поездом. Умоляю, выделите мне разворот! Или первую полосу...
Нет, все-таки лучше разворот: я дам на полосу снимков
и на полосу очерк. Александр Борисыч, это ведь НАША сенсация.
И "Комсомолка", и "Известия" будут молчать в тряпочку
или дадут тассовку в десять строк. А мы - целый разворот!
Грандиозно, правда?!
- Погоди-погоди, - начал было Главный. - Какой еще
академик... - Тут вдруг до него дошло. Он почему-то снял
очки, тоже медленно протер их салфеткой, водрузил на место
и спросил, неожиданно перейдя на шепот: - На самом деле
возвращается, официально?
Юра обиженно развел руками, словно глупый вопрос оскорбил
лично его.
- Нет, неофициально, - ядовито ответил он, наплевав
на всяческую субординацию. - В ящике под вагоном едет.
- Ладно, не петушись, - нахмурился Главный, бросая быстрый
взгляд на телефонный аппарат с гербом на диске. - Информация
надежная?
- Из первых рук! - гордо объявил Юра. - Я дозвонился
до Горького и сам с НИМ говорил.
- Ты, дозвонился? - недоверчиво переспросил Александр
Борисович. - Да ведь у НЕГО там не было телефона, я точно
знаю.
- Не было, - радостно согласился Юра. - А теперь стал.
Как только Горбачев с ним захотел поговорить, тут же и
телефон провели. За два часа провели... Вру - за полтора!
Главный вновь поглядел на телефон с гербом, задумался,
потом решительно снял трубку.
- Не доверяете? - понимающе усмехнулся Юра.
- Доверяю, - очень серьезно заявил Главный. - Если
бы я тебе не верил, разве я бы рискнул ТУДА соваться с
ТАКИМ вопросом?
Юра с интересом следил за его лицом, пока тот осторожно
наводил справки по "вертушке". Сперва лицо Главного было
непроницаемым, потом поскучнело, пошло множеством озабоченных
морщинок.
- Какая там государственная тайна, - резко спросил Главный
в трубку после долгой паузы, - когда он уже сегодня приезжает?
И если мы не пошлем корреспондента на вокзал, то мы первые
распишемся в собственной глупости. Почему? Да потому что
западники наверняка прибегут встречать, и их-то вы не
остановите... Нет, я не грублю. Просто надоело... Да,
понял. Постараюсь... Да... Ну, бывайте здоровы.
Главный аккуратно положил трубку на рычаг и негромко,
но с чувством выругался.
- Что вам ТАМ сказали? - с любопытством осведомился
Юра.
- Намекнули, что я старый болван, - с сердцем отозвался
Главный, машинально допивая свой кофе, который уже остыл
и подернулся светло-коричневой пенкой. - Дали понять,
что академик, может быть, и едет обратно, но вокруг этого
нельзя-де устраивать нездоровой шумихи... Как будто он
не из ссылки, а с курорта возвращается...
- Значит, не дадите разворота, - поник Юра. - Но ведь
идиотизм же, полный идиотизм молчать, делать вид, что
ничего не произошло!
Главный печально вздохнул:
- Сам знаю. Ты мне вот, Юра, другое скажи. Зачем, по-твоему,
они решили вдруг академика вернуть, а?
Юра непонимающе уставился на редактора:
- То есть как "зачем"? Вы что, считаете его ссылку нормальным
делом? Законным?
- Мало ли у нас чего ненормального и незаконного, -
отмахнулся Главный, - и ничего, небо не обвалилось, живем.
А вот академика вдруг взяли - и в Москву обратно вернули.
Наверное, и звездочки Героя, и ордена теперь возвратят,
которые он за водородную бомбу получил...
- Само собой возвратят, - согласно кивнул Юра. - И
что касается причины - нечего мудрствовать. Международная
общественность...
- Клали они на международную общественность, - спокойно
перебил Главный. - Раньше сколько ни кричали за бугром
про права человека, академик твой отбывал ссылку, как
миленький. Поверь мне, Юра, все это неспроста.
- Вы что же, Александр Борисович, не верите в перестройку
и новое мышление? - с грустной ехидцей пробормотал Юра.
Главный вздрогнул, погрозил Юре пальцем, затем громко
произнес в сторону молчаливых телефонных аппаратов на
своем рабочем столе:
- Я, Юра, верю и в перестройку, и в новое мышление, и
в курс партии, намеченный на последнем пленуме.
Произнеся эту фразу-заклинание, Главный отодвинулся подальше
от телефонов и добавил вполголоса:
- При Никите, милый Юрочка, тоже была перестройка. И
фестиваль был, и общественность твою международную в Москве
с почетом принимали и в президиум усаживали... А потом
ррраз - и наши баллистические ракеты оказались на Кубе.
Помнишь?
- Я вас не понимаю, - тихо отчеканил Юра, нахлобучивая
шапку и взваливая на плечо кожаную сумку с фотоаппаратами.
- Но я понимаю, что вы мне отказываете.
- Верно подмечено, - проговорил Главный. - Не могу
я тебе, Юра, дать под это дело разворот. Полосу тоже не
могу. Так что...
Пасмурный Юра, не дослушав, повернулся и пошел к двери.
- Да постой ты! - остановил его Главный. - И не дергайся
тут, как будто тебя током бьет. На вокзал поезжай обязательно.
Фотографируй, очерк напиши строк на пятьсот. Попробуем
что-нибудь сделать, мне самому интересно. По крайней мере,
я тебя прикрою. Можешь всем говорить, что выполняешь мое
задание. Идет?
- Идет, - удивленно произнес Юра. - Только я вас все
равно не понимаю...
- И не надо, - объявил Главный. - Вот помру я, придет
другой редактор... какой-нибудь прожектор перестройки...
тогда и поймешь. Топай давай, ты и так здесь наследил
своими башмаками.
По дороге на Ярославский Юра в который раз попытался разобраться
в логике шефа, но так ничего и не придумал. Гавный был
журналистом старой закалки, а долгие годы руководящей
работы привили ему склонность говорить раз в десять меньше,
чем знаешь, и, по возможности, вообще изъясняться ребусами.
Какое отношение к сегодняшнему приезду академика могут
иметь Никита, ракеты на Кубе и даже звездочки Героев,
полученные за водородную бомбу, так и осталось совершенной
загадкой. Будь у Юры времени чуть побольше, он бы докопался
до решения этого малопонятного ребуса, но тут подоспела
нужная станция, и Юра почел нужным отложить свои остроумные
догадки на потом.
На Юрино счастье, милицейского кордона на платформе все-таки
не было, а значит, не пришлось судорожно раздумывать,
как преодолеть оцепление, сделать снимки и при этом не
разбить камеру. Правда, в густой толпе на перроне мордоворотов
в шляпах было раза в три побольше, чем репортеров. Однако
ведь репортеры все-таки были, пусть и зарубежные. Опытным
глазом Юра углядел двух коллег из "Штерна", двух продрогших
японцев из "Асахи" с потрясающей фототехникой, длинноногую
американку с Си-Би-Эс, закутанную в искусственную норку,
улыбчивого Тимоти из "Гардиан" и Гришу с Би-Би-Си. Были
еще какие-то незнакомые журналисты, которые, впрочем,
могли оказаться тоже ШЛЯПАМИ, только работающими на Контору
внештатно. Все мордовороты, надо отдать им должное, рук
пока не распускали, а всего лишь стояли в шахматном порядке
живыми телеграфными столбами и зыркали вокруг глазами-лампочками
из-под шляп. Мельком Юра подумал, что у рыцарей без страха
и упрека головные уборы не по сезону и кто-нибудь во славу
Отечества сегодня может заработать грипп или даже менингит.
Впрочем, и эту интересную мысль Юра не успел толком обдумать:
где-то в отдалении загудело, заволновалась толпа на платформе,
вдали вспыхнули огоньки тепловоза, приближаясь все ближе,
ближе... Теперь Юра ни о чем больше не думал, а только
работал. На грудь он быстро повесил "Практику", на плечо
- "Зенит-ТТЛ" с телеобъективом, а в руки взял верный
"Никон" с таким расчетом, чтобы успеть схватить академика
в любом ракурсе. Не для газеты, так для Истории. Для Истории-то
ему снимать никто запретить не может.
Сначала в видоискателе проплыли вагонные окна вместе с
лицами, приклеенными к окнам изнутри и даже чуть сплющенными
о стекла. Затем в фокус попала дверь, и ее Юра уже не
выпустил из виду, продавливаясь сквозь толпу и глядя на
мир только через оптику фотоаппарата. Дверь еще немного
проехала, потом все-таки остановилась. Защелкали вспышки,
на ступеньках вагона появился ополоумевший дядька с узлом,
дико поглядел на репортеров, на мордоворотов и стал стремительно
проталкиваться отсюда подальше. Снова фигура в дверях,
снова вспышки блицев - и опять не то: пышная дама с толстой
дочкой, увидела толпу, испугалась, заохала, потом все-таки
рискнула вылезти и завязла в толпе. Западники, презрев
галантность, и не подумали расступиться, дать ей дорогу,
опасаясь потерять удобную точку съемки. Правда, и отечественные
мордовороты в шляпах не поспешили продемонстрировать свои
рыцарские качества: как стали столбами, так и стояли.
В конце концов, юрин фотоглаз потерял даму из виду. За
дамой последовало еще трое дядек с баулами, потом древняя
бабуля, потом какой-то кавказец в папахе и бурке... Академик
показался в дверях одним из последних, когда многие репортеры
зазря отщелкали до трети своего боезапаса. Вспышки ослепили
его, но тем не менее он храбро спустился в толпу и, загребая
одной рукой, как неопытный пловец, стал протискиваться
к зданию вокзала. Юра знал, что машина ждет академика
неблизко, с другой стороны вокзала, так что метров триста
ему все равно придется пройти вместе с толпой журналистов
и мордоворотов, которые разом утратили телеграфно-столбовую
неподвижность и теперь образовывали в толпе нечто вроде
арматуры или каркаса. Очаровашка с Си-Би-Эс оказалась
предусмотрительнее всех своих коллег: заботливо подхватив
академика под руку, она одновременно что-то уже спрашивала
его на ходу, поднося микрофон на длинном штативе почти
к самому облачку пара из губ академика. Со своего места
Юре не были слышны ни вопрос, ни ответ, однако Юра и не
старался пока прислушиваться. Его дело сейчас - снимать,
все вопросы можно задать уже потом.
Перед входом в здание вокзала стало чуть попросторнее,
и Юра, втиснувшись в одну из боковых дверей, обогнал толпу
и заспешил к академиковой машине. С водителем, тоже Юрой,
было заранее договорено, академик еще во время телефонного
разговора с Горьким согласился на первое интервью, поэтому
репортер Юра легко открыл дверцу и плюхнулся на заднее
сиденье.
- Идут? - спросил шофер Юра своего тезку.
- Сейчас будет, минуты через две, - переводя дыхание,
сообщил Юра N 1. - Если эта американка его не замучит
своими вопросами...
Американка сжалилась, очевидно, только через десять минут,
и именно тогда усталый академик возник, наконец, возле
машины, открыл дверцу и буквально упал на переднее сиденье.
Шофер выскочил из машины, принял из несколько поредевшей
толпы академиковы чемоданы и стал грузить их в багажник.
- Здравствуйте, - тем временем проговорил Юра академику.
- Вы не думайте, я буду молчать, отдыхайте.
- А-а, Юрочка, - узнал академик, поворачиваясь вполоборота.
- Чертовски рад вас видеть... - Говорил он тихим, но
вполне бодрым голосом. - Наоборот, не молчите, рассказывайте
что-нибудь. Я, знаете, к Горькому толком не успел привыкнуть,
а вот от Москвы, похоже, отвык...
Тезка-шофер упаковал-таки чемоданы, влез в кабину, заботливо
укрыл колени академика клетчатым пледом и только тогда
позволил себе стронуть автомобиль с места. Вокзальная
толпа вместе с мордоворотами и репортерами быстро скрылась
из виду.
- Да что рассказывать? - застенчиво проговорил Юра,
складывая свою фотоаппаратуру обратно в кожаную сумку.
- Набокова вот разрешили...
- Неужто "Лолиту"? - поразился академик.
- Пока "Защиту Лужина", - виновато объяснил Юра. -
До "Лолиты" мы еще не дозрели... А у Марка Захарова в
Ленинском комсомоле новый спектакль пошел, "Диктатура
совести", что ни спектакль - все митинг, и все о политике...
- Что-то название странное, - вежливо заметил академик.
- Если уж диктатура - так какая там, к дьяволу, совесть...
Объяснить смысл названия Юра не успел. Машина вильнула
и резко затормозила. Сквозь стекло было видно, что дорогу
им перегородил большой длинный автомобиль. Дверь автомобиля
открылась, оттуда вылез грузный человек в штатском, приблизился
к академиковой машине, постучал в боковое стекло.
- Открыть? - почему-то вполголоса спросил Юра.
- Ну, конечно, - ответил академик, не задумываясь. -
Ему же холодно стоять там, на дороге.
Юра отжал запирающее устройство и открыл заднюю дверцу.
Грузный человек ловко забрался на заднее сиденье и хлопнул
дверцей.
- С приездом, - густым голосом сказал гость.
- Спасибо, - учтиво отозвался академик. - Слушаю вас.
- Ради бога извините, что мы вас перехватили прямо по
дороге, - предупредительным тоном произнес мужчина в
штатском. - Но дело не терпит отлагательств. - Он вытащил
из внутреннего кармана запечатанный конверт, вскрыл его
и через спинку переднего сиденья передал академику. -
Скажите только, да или нет?
Академик близоруко взглянул на листок, прочитал и сказал:
- Нет. Первый раз об этом слышу.
Человек в штатском деликатно взял листок из рук академика,
спрятал обратно во внутренний карман, а потом устало спросил:
- Но теоретически такая возможность есть?
- Есть, - согласился академик. - И даже довольно высокая.
Товарищ Сталин ведь был не просто плохим человеком. Он
был НЕПРЕДСКАЗУЕМО плохим человеком. Я понятно выражаюсь?